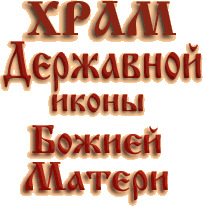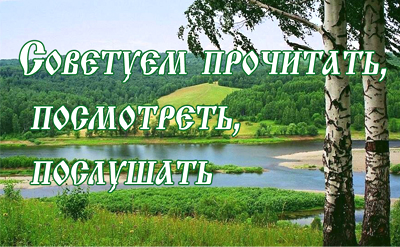Прошло почти 25 лет после опубликования статьи известного русского писателя Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997 гг.) «Почему я не подписался под тем письмом» (журнал «Наш современник», №12, 1988 г.), но актуальность ее не уменьшилась. Она является одним из авторитетных документов для осмысления нашей отечественной истории ХХ века.
Почему я не подписался под тем письмом
Некоторое время тому назад я получил письмо от инициативной группы добровольного общества «Мемориал». Целью общества провозглашалось увековечение памяти жертв незаконных и необоснованных репрессий середины тридцатых годов. Мне предлагали поставить свою подпись под соответствующим письмом в ЦК КПСС. Сообщалось при этом, что многие подписи уже собраны. Я этого письма не подписал, и это выглядит, можно сказать, чудовищно, поэтому я решил теперь объяснить и обосновать свою позицию, хотя бы для самого себя.
Тогда, отказываясь от подписи, я задал представителям инициативной группы один-единственный вопрос, на который не получил ответа. Я спросил: «Начиная с какого года репрессии нужно считать незаконными и необоснованными, а до какого года их можно считать и законными и обоснованными?»
Впрочем, словечко «незаконные» вскоре как-то незаметно ушло из обихода. Оставалось только слово «необоснованные». А потом выпало и это слово. Так, в информации об избрании общественного совета, который будет руководить созданием и работой «Мемориала», говорится уже предельно кратко: «Мемориал жертвам сталинских репрессий», без дополнительных уточнений и эпитетов.
«В совет вошли известные писатели, историки, общественные деятели: А.Адамович, Ю.Афанасьев, Г.Бакланов, В.Быков, Е.Евтушенко, Б.Ельцин, Ю.Карякин, В.Коротич, Д.Лихачев, Р.Медведев, Б.Окуджава, Л.Разгон, А.Рыбаков, А.Сахаров, А.Солженицын1, М.Ульянов, М.Шатров».
Прочитав эту информацию в газете «Московские новости», несмотря на авторитетный, и в некотором роде уникальный, состав совета, я ощутил в себе некий внутренний протест.
Представим себе инициативную группу, которая ратовала бы за памятник жертвам Великой Отечественной войны, павшим в 1944 году. Допустим, что у инициаторов в этот год погибли близкие родственники и вот они ратуют за памятник жертвам войны 1944 года.
— Позвольте, – спросит любой здравомыслящий человек, – а как же 1943 год? 1942-й? Наконец, 1941-й? Павшие в эти годы, значит, не подлежат увековечению? Или, может быть, павших в эти годы вовсе и не было?
Да, заглядывать в двадцатые, равно как в 1918 и 1919 годы, страшно и трудно. Трудно еще и потому, что если от сталинских репрессий остались хоть какие-нибудь следы в виде протоколов допросов, пусть фальсифицированных и вымученных, в виде стенограмм судебных процессов, пусть сфабрикованных, зафиксированных на бумаге приговоров, то от предыдущих лет и десятилетий не осталось ни документов, ни имен, ни списков, ни даже хотя бы количества истребленных людей. Путем математических, демографических вычислений приходят к цифре в 15—17 миллионов (без коллективизации и голода 1933 года), но, увы, подтвердить эти цифры теперь никак невозможно. (Кстати сказать, а почему в эти наши дни гласности не объявить людям, сколько же человек в конце-то концов было расстреляно в насквозь продокументированном 1937 году?)
Документации нет, архивов нет. От 20-х годов остались только куцые разрозненные свидетельства, которые можно выловить из литературных источников. Писать об этом было нельзя, говорить об этом было нельзя, но все же «этого» было так много, что кое-что чудом осталось. Это «кое-что» хоть и не может служить юридическим документом, но человеческим документом служить может.
Например, широко известен эпизод ссоры поэта Осипа Мандельштама с крупным чекистом Блюмкиным. Он описан во многих мемуарах, в том числе (правда, в смягченном виде) и в воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам, к которым мы еще будем обращаться.
Во время какой-то пирушки Блюмкин и Мандельштам оказались в одной компании. Сильно подвыпивший Блюмкин начал хвастаться: «Интеллигенция? Культура? Вот она где вся ваша интеллигенция!» С этими словами он достал из кармана пачку ордеров на расстрел, заранее подписанных высшим начальством, но еще без
фамилий, из другого кармана достал список людей, сидевших на Лубянке, и начал на глазах у всех ордера заполнять. Поэт не выдержал этого зрелища, бросился на чекиста, выхватил ордера у него из рук, скомкал или даже порвал.
Когда однажды, во время встречи с читателями, я пересказал этот эпизод, пытаясь доказать, что законности и обоснованности в деятельности Блюмкина было ничуть не больше, чем в каком-нибудь террористическом эпизоде из 30-х годов, пристрастный девичий голосок из публики крикнул: «Но ведь это же были враги!» Ничего не стоило, выдержав паузу, спросить у крикнувшей:
— А вы разве видели эти списки? Разве вы знаете, кто там был?
В этом выкрике, если хотите, вся суть репрессий. Достаточно сказать «враги» — и можно истреблять миллионами. Велика ли разница, что в одном случае к слову «враги» добавлено словечко «революции», а в другом случае «народа». В воспоминаниях Н. Я. Мандельштам читаем: «Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права или наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли… Людей снимали пластами, по категориям (возраст тоже принимался во внимание). Церковники, мистики, ученые идеалисты, мыслители, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями… Люди искореняющей профессии придумали поговорку: «Был бы человек – дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте (1928 г.) от Фурманова, брата писателя. Бывший чекист, через жену еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал».
Надежда Яковлевна перечислила не все пласты. Гимназисты и гимназистки, а тем более преподаватели и директора гимназий, земцы и землемеры, купечество и дворянство, управляющие домами, банками, железными дорогами, адвокаты и профессора университетов, капитаны речных пароходов, и владельцы трактиров, интеллигенция вообще, верхний слой общества вообще…
Надежда Яковлевна продолжает свои рассуждения. «Мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской жестокостью… Почему именно молодых легче всего превратить в убийц? Почему молодость с таким преступным легкомыслием относится к человеческой жизни? Это особенно заметно в роковые эпохи, когда льется кровь и убийство становится бытовым явлением. Нас науськивали, как собак, на людей, и свора с безсмысленным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская психика распространялась, как зараза (антропофагия — людоедство, каннибализм. — В.С.). В Киеве, в мастерской Экстер, какой-то заезжий гость, не то Рашаль, не то Черняк, прочел частушки Маяковского о том, как топят в Мойке офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась…»
«Многие до сих пор спрашивают меня, почему О. М. это сделал (бросился на Блюмкина. — В. С.), когда расстреливали направо и налево».
«Мы сошлись с О. М. первого мая 1919 года, и он рассказал мне, что на убийство Урицкого большевики ответили «гекатомбой трупов». Мы расстались 1 мая 1938 года, когда его увели, подталкивая в спину, два солдата».
Поясним, для тех, кто забыл, что гекатомбы — это древнегреческие жертвоприношения сразу из ста быков. В переносном смысле гекатомбы — это огромные жертвы войны, террора. Ну, а попросту — бойня.
Итак, на смерть Урицкого ответили бойней. Убийство Урицкого — террористический акт. Ну, сколько человек участвовало в террористическом акте? Не десятки же тысяч, превратившиеся в горы трупов?
Так что же, убийство этих десятков тысяч было делом законным и обоснованным? Из случайного совпадения дат — 1 мая 1919 года и 1 мая 1938 года —Надежда Яковлевна сделала трезвый и объективный вывод: разве думали мы, отменяя в России всякую законность, что через 20 лет это обернется против нас самих?
Надежда Яковлевна продолжает свидетельствовать из Киева: «Мы увидели в окно телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. Чека помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан жёлоб, чтобы стекала кровь — техника еще была наивной» (Надежда Мандельштам. «Вторая книга», стр. 26).
Перекинемся из Киева в Одессу и прочитаем свидетельство ни больше ни меньше как Ивана Алексеевича Бунина. «Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой». (Ив. Бунин. «Окаянные дни», изд. «Заря», Лондон, 1977, с. 94). Значит, унитаз вместо жёлоба. Удобнее и гигиеничнее. Выстрел. Подержали голову над чашкой клозета, спустили воду. Следующий! И что же, это всё — в рамках законности и обоснованности?
После Бунина берем в свидетели замечательного и прославленного писателя, гуманиста и демократа, Владимира Галактионовича Короленко.
Мы иногда думаем и гадаем, как отнеслись бы к событиям 20-х годов (и двух предыдущих лет) ну, скажем, Толстой, Чехов, Герцен, Некрасов, Достоевский… Не знаем. Но вот — Короленко. В эти годы он оказался в своей родной Полтаве вблизи Миргорода, Сорочинцев, вблизи Диканьки. Что может быть мирнее, идилличнее этих мест?
В 1920 году к Короленко приезжает Луначарский. Скорее всего, узнать, прощупать, чем дышит славный и популярный писатель, страдалец за правду народную. Чтобы узнать об этом подробнее и документированно, Луначарский уговорил Короленко писать ему письма с твердым обещанием эти письма опубликовать. О Короленко он потом выразился так: «Эти «праведники» в ужасе от того, что наши руки обагрены кровью». Ни одно письмо опубликовано не было. Вместо этого к Короленко приехала из Москвы группа врачей «лечить простуду», и в 1921 году Владимира Галактионовича не стало.
Но письма его не пропали. Они были изданы 1922 году в Париже, и эта книжица есть в Ленинской библиотеке, в «спецхране». (Когда писалась эта статья , письма Короленко не были еще опубликованы «Новым миром», 1988, № 10). Выпишем оттуда несколько отрывков.
«Кошмарный эпизод с расстрелами во время вашего приезда как будто лег между нами такой преградой, что я не могу говорить ни о чем».
«Однажды один из членов Всеукраинской ЧК, встретив меня в Полтавской Чрезвычайной Комиссии, куда я часто приходил и тогда с разными ходатайствами, спросил меня о впечатлениях. Я ответил: если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право… казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь.
На это мой собеседник ответил:
— Но ведь это же для блага народа.
«На улице чекисты расстреляли нескольких так называемых «контрреволюционеров». Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они действительно пытались бежать (не мудрено), и их пристрелили тут же на улице… Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи крови, которую лизали собаки…»
«Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева, в своей речи высказали солидарность с этими «административными расстрелами».
«Безсудные расстрелы происходят у нас десятками».
В одно из писем к Луначарскому Короленко вставил свое письмо в Миргородскую Чека.
«Товарищ Поройко,
я получил от вас любезный ответ на свое письмо… Благодарю вас за эту любезность по отношению ко мне лично, но я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне, в том числе одна девушка 17 лет и еще двое малолетних. Теперь мне известно, что Чрезвычайная Комиссия «судит» и других миргородчан и опять является возможность безсудных казней…
Товарищ Петровский дал телеграмму в Полтаву не приводить приговор над малолетней в исполнение, и Пищалка, как говорят, отправлена в Харьков. Но так как «отправить в Харьков» — это формула, которая у нас равносильна «отправить на тот свет» (так отвечают в справочном бюро родным о расстрелянных), то судьба Пищалки остается мрачно сомнительной».
Конечно, демократ, гуманист и правдоискатель не мог спокойно смотреть на происходящее, но и сделать ничего не мог. Ну, заступился за девочку по фамилии Пищалка, может быть, даже ее он спас от расстрела, но что одна Пищалка, когда не во всех ли безчисленных городах огромного государства творилось то же самое? Не осталось вот только документации, и свидетелей теперь уж не осталось.
Еще один литературный источник — замечательная повесть Валентина Катаева «Уже написан Вертер». Повествование ведется от первого лица. Героя повести, одесского юношу, схватила ЧК. Его ведут на допрос. (Скажем, забегая вперед, что и его должны были расстрелять, но в последний момент заставили отойти в сторону. За него успела похлопотать перед крупным чекистом мать, и он остался жив. Он остался свидетелем. А если бы хлопнули вместе со всеми, не было бы свидетеля, как это и получалось во всех остальных случаях. Кстати, не было бы у нас и писателя Вал. Катаева.)
Итак, его ведут на допрос. «Послышались шаги. На площадку шестого этажа вышла девушка в гимназическом платье, но без передника, красавица… Породистый подбородок дерзко вздернут и побелел от молчаливого презрения, шея оголена. Обычный кружевной воротничок и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют… Сзади комиссар с наганом, копия его комиссара. В обоих нечто троцкое, чернокожаное… Один вел свою с допроса вниз, другой своего на допрос вверх… Ее щеки горели. Точеный носик посветлел, как слоновая кость. Знаменитая Венгржановская. Самая красивая гимназистка в городе. Именно с ней он когда-то танцевал хиавату… Она была участницей польско-английского заговора. Они решили поднять восстание, захватить город и, перебив комиссаров и коммунистов, передать его великой Польше «от моря до моря»…
Теперь их всех, конечно, уничтожат. Может быть, даже сегодня ночью вместе с ним. Наберется человек двадцать, и хватит для одного списка… работы на час.
Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться донага. Как родился, так и уйдет.
Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех?..
…Следователь оставался в тени. Молодое неразборчивое лицо. Юноша, носатый. Лошадиные глаза. На громадном письменном столе возле локтя «кольт», источающий запах смазки. Шикарный кабинет с кожаной мебелью. Может быть, здесь недавно жил какой-нибудь адвокат, коллега отца… Но еще страшнее было полотнище кумача с лозунгом «Смерть контрреволюции!» Это знамя он уже видел на первомайской демонстрации. Его несли во главе колонны сотрудников Губчека. На стене под знаменем висел знакомый портрет: пенсне без оправы, винтики невидящих глаз, обещающих смерть, и только смерть…
…В коридор полуподвала ворвался топот многих ног. Одна за другой открываются двери камер. Приближается голос, произносящий фамилии знакомые и незнакомые — по списку.
— Прокудин, Фон Дидерикс, Сикорский, Николаев, Ралли, Венгржановская, Омельченко. — Пронесет или не пронесет? Не пронесло. Щелкнул замок. В щели полуоткрывшейся двери тускло блеснула кожаная куртка. Наплечные ремни. Кубанка. Ручной электрический фонарик. Зайчик света побежал по листу бумаги с треугольной печатью.
— Из камеры с вещами. Карабазов. Войнитский. Ничепоренко. Вигланд. Венгржановский…
…Время перестало существовать, так как вокруг уже чернела ночь, пахло петунией, и все они сидели в открытой беседке недалеко от гаража, где уже заводили мотор грузовика. (Это чтобы заглушить выстрелы.— В. С.)
Два первых уже исчезли. Их вещи кучей лежали на газоне. Стукнуло два выстрела, тупо поглощенных кирпичной стеной… За полуоткрытыми воротами гаража проводилась странная работа…
…Под голой электрической лампочкой слабого накала, на клумбе петуний и ночной красавицы, недалеко от кучи снятой одежды стоял Наум Безстрашный, отставив ногу в шевровом сапоге, и ему представлялось, что он огнем и мечом утверждает всемiрную революцию…»
Но тут Наума Безстрашного посетило видение, как бы вещий сон сквозь явь. Он как бы пронесся «…мимо черной скульптуры и чаши итальянского фонтана на Лубянской площади и понял, что уже никакая сила в мiре его не спасет, и он бросился на колени перед незнакомыми людьми, которые уже держали в руках оружие. Он хватал их за руки, пахнущие ружейным маслом (а как же кличка — Безстрашный? — В. С.), он целовал слюнявым разинутым ртом сапоги, до глянца начищенные обувным кремом.
Но все было безполезно, потому что его взяли с поличным на границе с письмом, которое он вез от изгнанного Троцкого к Радеку… Его втолкнули в подвал лицом к кирпичной стене. Посыпалась красная пыль, и он перестал существовать…»
При прочтении этих строк может возникнуть множество разных чувств. Во-первых, бросается в глаза разница в поведении на расстреле юной красавицы-гимназистки с гордо поднятой головой и ее убийцы, лижущего слюнявым ртом сапоги. В этом конкретном случае может даже шевельнуться чувство, похожее на возмездие. Но хотелось обратить внимание на другое. Не веет ли на нас чем-то знакомым от сформулированного обвинения юной гимназистке: «Польско-английский заговор с целью захватить Одессу и передать ее великой Польше «от моря до моря»? Разве это не такой же вздор, как и обвинения 30-х годов, когда советские командармы, комкоры и комбриги оказывались то японскими шпионами, то заговорщиками с целью захватить, ликвидировать, уничтожить? Формулировки начала 20-х и середины 30-х годов оказываются до удивления похожими.
А теперь вернемся к «Мемориалу». Ведь в воздвигнутом мемориале хоть одним камешком — хотим мы этого или не хотим — окажется увековеченной и память о Н. Безстрашном, поскольку он был расстрелян в тридцатые годы, при Сталине, но в мемориале не отыщется и тени памяти прекрасной гимназистке, застреленной Н. Безстрашным. Дело не только в Венгржановской, ведь она была не одна. Как правильно написала Н. Я Мандельштам, людей снимали пластами, по категориям. И как быть с памятью о тех, чья кровь стекала по жёлобу? Как быть с памятью о тех, чью кровь смывали, спуская воду в клозете? Как быть с памятью о тех, чью кровь лизали собаки на улицах Миргорода? Не забудем, что в каждом без исключения городе огромного государства шли, как их назвал Короленко, безсудные, административные расстрелы.
А как быть с жертвами 1929 года, когда ни в чем не повинных крестьян миллионами выбрасывали в тундру на голодную, холодную смерть? Как быть с десятью миллионами жертв 1933 года, когда на Украине, на Кубани и на Волге родители ели своих детей, ибо там был инспирирован голод?
Новый мемориал собираются «привязать» к т. н. дому на набережной. Но куда, к какой географической точке привязать, если бы захотели воздвигнуть, мемориал мученикам Украины, Кубани и Поволжья, Сибири и русского Севера, скотоводам Казахстана и Киргизии, садоводам Таджикистана, труженикам-узбекам, кавказским народам, белорусам, крестьянам коренных российских губерний?.. Ни к какой географической точке, ни к какому «Дому на набережной» такого мемориала не привяжешь. Вся наша земля для них единый мемориал. Будем ли стыдливо умолкать при упоминании о беззаконном и зверском истреблении царской семьи: четырех девочек, мальчика, женщин; постараемся ли забыть декрет «о расказачивании России», в котором предписывалось Частям Особого Назначения поголовное истребление казачества с детьми и женщинами, и который (декрет) унес больше миллиона казачьих жизней; есть данные, что в России до революции было 360 000 священнослужителей, а к концу 1919 года их осталось 40 000. Забудем об этом? Или сделаем вид, что ничего этого не было? Или будем в каждом отдельном случае воздвигать отдельный мемориал?
Я не подписал тогда «мемориального» письма не потому, что считаю жертвы сталинских репрессий недостойными увековечения, но потому что, увековечив их, мы тем самым навсегда отбрасываем в тень забвения все остальные жертвы, а они в сотни и тысячи раз многочисленнее и кровавее. Из чего же мы исходим, создавая мемориал, из качества, что ли, жертв? Справедливо ли это и — не побоюсь сказать — нравственно ли?
1 Как стало известно позднее, А.Солженицын согласия войти в этот совет не давал. (Ред.)